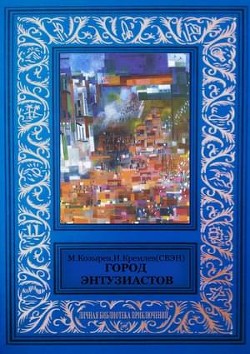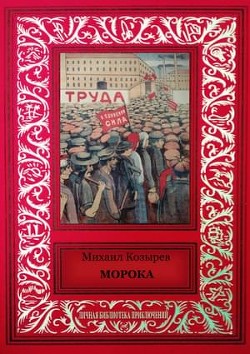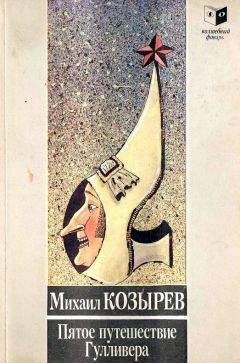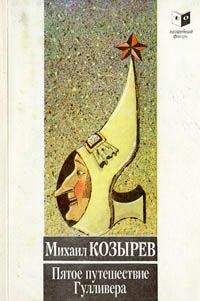Первое движение мысли – поделиться с кем-нибудь этой новостью. Рассказать архитектору? Но архитектора не оказалось и невзрачном помещении строительного кооператива. Метчиков все равно ничего не поймет – да и надо ли? Алафертов? Вот именно – рассказать Алафертову. Может быть, Алафертов интересуется его успехом?
Он побежал бы к Алафертову и поделился бы с Алафертовым своим неожиданным успехом, если бы дорога к этому товарищу и другу детства не вела через мост. А на мосту в этот момент сгрудились подводы, тропинки для пешеходов заняли служащие, расходившиеся по домам, торопясь и не желая никому уступать дороги. Поневоле Бобров пошел шагом, а изменение в скорости движения и напряженности его несколько охлаждающе повлияло на мысль.
– Зачем я бегу? Куда? Что я скажу?
Несколько минут но инерции он двигался вперед, потом неожиданно для догонявших его пешеходов повернулся назад и очутился с кем-то лицом к лицу.
Лицо, с которым довелось столкнуться Боброву оказалось круглым, как молодой месяц, красным, как тот же месяц в туманную ночь, и улыбающимся – опять-таки точь-в-точь как месяц.
Впрочем, столкнувшись с Бобровым, оно не улыбнулось, а сморщилось:
– Эк, тебя!
И несколько отшатнулось назад. Бобров извинился и отступил на шаг вправо. Лицо во всех отношениях, похожее на месяц, отступило тоже на шаг и в ту же сторону. Бобров только теперь заметил, что оно снабжено круглым туловищем, загораживающим узкую тропинку. Наступила очередь возмущатьея ему. Прошептав что-то угрожающее, он сделал шаг влево – и влево же передвинулось круглое туловище.
– Затерло, – сказало добродушно круглое, как месяц, лицо, повернулось к Боброву боком, при чем Бобров смог заметить руку, плотно сжимающую портфель.
Бобров тоже встал боком, и они разошлись.
К чему, спросите вы, столь подробное описание ничтожного происшествия? К чему это похожее на месяц лицо? Действительно, оно мало интересно для дальнейшего повествования, кроме разве того, что пустяковый случай этот поставил, как говорится, расстроенного и взволнованного героя на рельсы; уже и самая мысль о том, что произошло нечто выдающееся, оставила его; уже не требовалось ни с кем делиться ошеломляющей, якобы, новостью, и только некоторое время сохранялось смутное волнение и беспокойство, как-будто бы он забыл о чем. О чем же забыл?
– Нюра! Ведь она ждет!
И с тягостным чувством необходимости этой встречи он вернулся обратно и направился на Гребешок.
* * *
Странная вещь, друзья мои, человеческое сердце. Только вчера, получив радостную весть, не к Нюре ли побежал бы он поделиться этой радостной вестью, не ей ли первой рассказал бы о планах своих и неудачах? И вдруг – с тягостным чувством необходимости идет он к условленному месту свиданий.
Она заметила необычную его возбужденность.
– Что с тобой? Утвердили? Нет? Отказали? – забросала она его беспокойными вопросами, глядя на него влюбленными глазами, в которых светились и нежность, и гордость, и тревога.
– Нет… Но очень, очень много сделано, – ответил Бобров.
– Расскажи.
Как рассказать? Разве об этом можно рассказать ей? Что она поймет? Как отнесется?
– В общем, пожалуй, и ничего не сделано, – сбивчиво пояснил. – Ты этого, пожалуй…
Он долго подыскивал слово, которое бы не обидело Нюру, – и не нашел.
– Ты этого не поймешь.
Такое пренебрежение было полной неожиданностью для Нюры.
– Я – не пойму? Что ты говоришь? Так вот как ты смотришь на женщину. Ты думаешь, что она понимает меньше вашего. Нет, у меня тоже котелок варит, – не преминула она и в этом случае щегольнуть оборотом излюбленного наречия.
Поневоле пришлось поделиться: Бобров рассказал Нюре о всех мытарствах, о разговоре с архитектором, и, наконец, не без некоторого, впрочем колебания, о встрече с Мусей, утаив, конечно, подробности чисто эмоционального свойства, которые одни, может быть, могли быть непонятны для Нюры.
Нюра отнеслась к его рассказу с полным равнодушием.
– Глупости болтает твой архитектор. Он отсталый и смешной человек. Ты не обижайся, что я так говорю о твоем… приятеле.
Затем она повторила все те доводы, которыми думал и сам Бобров сбить Галактиона Анемподистовича с его позиции.
– А это что еще за Муся? Поговоришь с тобой – и с твоим архитектором, как-будто в омуте побываешь. Неужели ты думаешь так действовать? Это, знаешь ли…
Она не договорила – но Бобров отлично понял ее мысль.
– А что же ты другое выдумаешь?
Нюра бесшабашно тряхнула стрижеными кудрями и, подняв голову, попыталась облаком табачного дыма закрыть самое солнце.
– Устроить хорошенькую бузу. Я бы пошла – всех там растормошила. Барахолиться тут нечего. Мы в этих случаях всегда бузим – и она бросила на Боброва вызывающий взгляд независимой школьницы.
– Попробуй.
– И попробовала бы. А ты что – тряпка. Слушаешься какого-то архитектора, он тебя на поводу держит. Ты бы рабочему такую штуку сказал, он бы тебя…
– Ну и стали бы ждать сто лет…
– Вовсе не сто лет. А для чего тебе обязательно такой большой план проводить? Соглашаются на маленький – работай.
Объяснять Нюре, для чего ему нужно проводить именно большой план, не входило в соображения нашего героя.
– Ты, может быть, сам к этому делу подходишь не совсем…
Она не договорила, но Бобров прекрасно понял ее мысль.
– Тут не может быть разговоров об этом, – ответил он. – Для того, что мы начали, можно все потерять… Даже…
Он тоже запнулся на полуслове и не договорил.
Они молча шли по заросшей травой тропинке – он глядел по столпам на высокие тихие деревья – она смотрела вниз, та траву, на следы чьих-то ног, притоптавших эту траву.
– Так ты сегодня будешь у нее? Так скоро, – первая прервала молчание Нюра.
– Конечно. Надо успеть поговорить с товарищем Лукьяновым. Осталось три дня.
– Значит, твердо решил – сегодня?
В голосе ее чувствовалась нескрываемая тревога. Она крепко сжала его руку – так она делала всегда, когда оставалась с ним наедине: Боброву нравилось чувствовать теплоту ее мягкой руки, но сейчас это только раздражало.
– Сегодня? – шёпотом переспросила она: – не надо! Не ходи!
– Почему же не ладо?
– Не надо. Ну я прошу тебя – неужели ты не сделаешь для меня… такого пустяка.
– Что же случилось? – Неужели она будет мешать мне, – подумал он. – Скажи, почему, – я тебе отвечу.
Она покраснела, опустила голову и чуть слышно сказала:
– Не могу… Я не могу сказать, почему… У меня предчувствие.
– Предчувствие?!..
Он посмотрел на нее так, как-будто в первый раз видел это раскрасневшееся тонкое личико. Предчувствия! И это женщина, которая так просто, так смело и легко сошлась с ним – без разговоров, без слез, без вздохов, женщина передовая, предоставившая старым тетушкам и бабушкам все пережитки, все предрассудки, все так называемые отрыжки буржуазной психологии.
Беда, мой дорогой читатель, с этим женским элементом человеческого рода. Ты считаешь стриженую эту головку, набитую премудростями курсов политграмоты и прочими премудростями, набиваемыми в сотни таких же стриженых головок, на всех рабфаках, вузах, тузах, втузах и техникумах, за кладезь самых новых мыслей и взглядов, а оказывается – в этой головке еще осталось место для каких-то там предчувствий. Ты думаешь, что она верит только в Маркса и Энгельса, свято соблюдая заветы Ильича, а она верит снам и каждое утро перелистывает потрепанный сонник, чтобы узнать, что значит целоваться во сне или видеть во сне виноград и пирожные.
Так, примерно, рассуждал и Бобров. Так рассуждала бы и сама Нюра, будь бы она на его месте.
– Какие предчувствия? Просто смешно это от тебя слышать. Ты ревнуешь, может быть? Так если я тебя разлюблю – я прямо скажу об этом и все тут. Ведь верно?
Он мог бы повторить ей, что и любви, как чего-то особенного и связывающего, вовсе нет, что есть физиологическое влечение, что это одно из самых простых житейских дел – он мог бы сослаться, что до сих пор и она очень просто относилась ко всему, и прочее, и прочее…